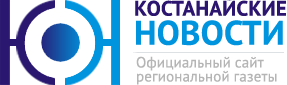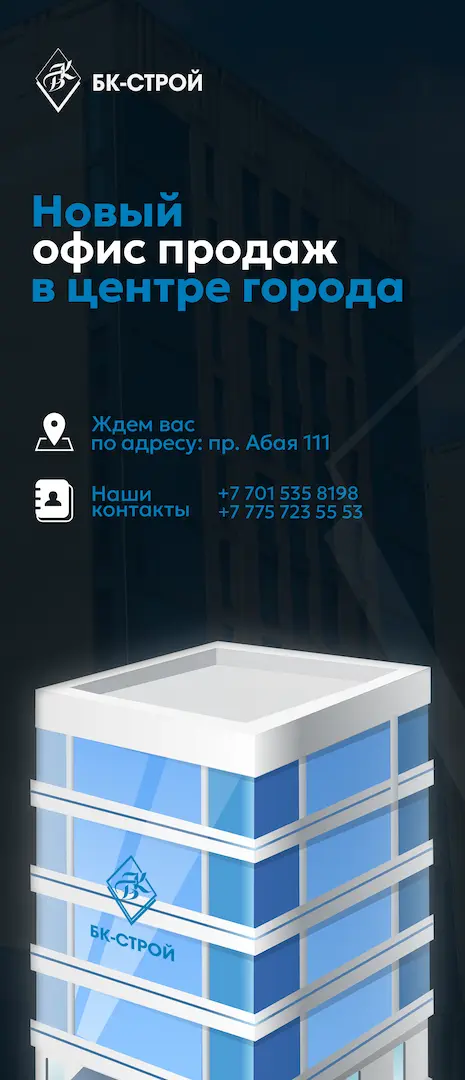Двор у нас большой, в центре Костаная. Тот, кто живет на другом его конце, понятия не имеет про Петровича. Он садится на скамейку у своего подъезда с баяном в руках, и за кустами сирени его совсем не видно. Только слышно. Мало ли, думает народ, может, радио у кого включено или телевизор. Хотя там таких песен давно не поют. Выходит он редко, а тут иду и слышу негромкое:
«На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход…»
«Сормовская лирическая», когда-то любимая в народе песня. Артист попадает в ноты, но голос не сильный, вроде как для себя напевает. А для кого еще? Для людей, для прохожих, иначе зачем бы он садился у подъезда? Не раз я проходил мимо, а тут зацепило. Подошел, подсел, он покосился, допел до конца куплет и сдвинул меха баяна. Смотрит вопросительно: чего тебе? Роскошные усы аккуратно подстрижены, и даже причесаны, а брови еще гуще усов. Куда тому Брежневу!

Расскажи, говорю, кто ты такой, почему поешь и для кого? Возраст не могу определить, а он секрета не держит: Александр Петрович Васильев, 81 год, а поет для своего удовольствия. Музыка, говорит, это для меня всё, с детства очень люблю, когда играют. До войны, вспоминает, совсем другая жизнь была. Патефоны люди держали, гуляли по вечерам. «Бывало, выйдет кто на улицу, поставит его на завалинку и слышно всем. Я еще тогда полюбил слушать».
По нему видно, что давно не было желающих поговорить с пожилым человеком. Не ждал он меня и потому говорит торопливо, иногда повторяясь. Будто боится, что вот подсел случайный прохожий, спросил про жизнь, а сам не дослушает и уйдет.
Песня у него про Волгу, раздольная, как сама река, а сам-то он больше Тобола ничего не видел. Родился в Пресногорьковке, там и прожил почти всю свою жизнь. Разве что в армии мог бы мир посмотреть, так и то под Ашхабад загнали, в пустыню. Вот и вся его Волга. Курс молодого бойца прошел там, а готовили их служить в Германии. По его словам, бойцом он был невысоким, но ладным, старательным. В 1954 году это было.
Кто-то из парней бурчал в казарме, мол, зачем и для кого в пустыне сапоги начищать? Для змеюк да скорпионов, никого другого здесь и нет. Дошло до командира части, и он разом пресек брожения. Вы, говорит, поедете служить в побежденную страну, и вот выйдут на вас местные немцы посмотреть и спросят: а кто это к нам приехал? А бродяги, скажут, приехали, в грязных сапогах и мятых воротничках.
У Петровича с этим был порядок. От какого-то земляка, уходящего на дембель, достался ему драгоценный подарок: целлулоидный трофейный подворотничок. Он-то и помогал держать форму.
– Ты не гляди, – говорит Петрович, – что я ростом не вышел. Служил, как положено, и на турнике крутил все фигуры. Коней с детства любил и знал, как за ними ухаживать. В армии это пригодилось.
Но ни в какую Германию его не пустили, все уговаривали на сверхсрочную остаться. Квартиру обещали в Ашхабаде, даже зарплату. А он не остался, домой поехал, матери помогать. Те сапоги, которые кто-то не хотел чистить, для него, можно сказать, были едва ли не первой настоящей обувкой.
«Там в городе Горьком, где ясные зорьки,
Подруга в рабочем поселке живет...»
В школе своей деревенской он учился, как мог, и всю дорогу в колхозе помогал маме. Не большой грамотей, признается, успел закончить всего четыре класса, в таблице умножения до сих пор путается. Но четыре класса в то время тоже ценили. И что ему умножать было, когда всю жизнь у него что-то вычитали. В колхозе сено копнил, солому, и все за трудодни. «Себя не выгораживал, трудился по совести». Правда, денег живых не видели, если надо было что купить, так беда. В общем, как работать, так давай, Шура, а как пенсию получать, так веди теперь двоих свидетелей. Где же их взять, когда уже ни колхозов тех нет, ни деревень? Да и люди, если кто жив, неизвестно где.
Бедовали они в колхозе имени Горького Пресногорьковского района, сейчас он Узункольский. Мама ему часто говорила в то время: «У Горького жизнь была горькой, а в нашем колхозе и того горше». Когда отец ушел на войну, рассказывает Александр Петрович, совсем худо стало. Голодуха была, все для фронта, понятное дело... Другие песни звучали, да и не до песен было. Но вот, думали, кончится война, побьют фашиста, и полегче будет. А не вышло, мужиков проредило, опять в поле ребятня да женщины.
Когда в колхозе нищета совсем заела, терпение кончилось. А тут и ребята знакомые из города приехали, Петрович с ними в одной бригаде был, картошкой делились. Дядя у него был в Караганде, договорились, что помогут к нему добраться. Маме сказал: не пойду больше в школу, в город поеду. Возражений не было, она молча достала галоши, в них и поехал. Босиком, можно сказать, но в блестящих резиновых галошах.
«В рубашке нарядной к своей ненаглядной
Пришел объясняться хороший дружок...»
У Петровича черные хорошо начищенные ботинки, выглаженные брюки, и к рубашке не придерешься. Не нарядная, не яркая, но чистенькая, отглаженная, хоть сейчас на сцену с баяном. Видно, не терпит непорядка ни в чем. Даже трудно представить его в распространенном мужицком домашнем наряде типа треников, цветных трусов и шлепанцев с черными носками.
А тогда в Караганде дядя подарил ему свои штаны и яловые сапоги. Начал искать, куда устроиться учиться. В газете увидел объявление горно-промышленной школы. Хотел сразу пойти, а видит, что молод еще, года не хватает. Справку с поселкового совета попробовал подправить, но вышло коряво, нехорошо.
До сих пор помнит, как собрался с духом и зашел в кабинет, а директор уже уходить хотел. Высокий, статный, в кожаном пальто. Петровичу даже неловко стало за свою мятую справку и страшно, что вот сейчас выгонят. Однако взяли, поговорили, как со своим. Директор посмотрел на его заявление и написал в углу: «Зачислить». Радости было! Петрович говорит, такого праздника еще не было у него. «Видно, Бог пособил».
Люди тогда в Караганде разные попадались, известное дело, Карлаг... Пленных японцев из лагерей освобождали, домой отправляли, всяких отсидевших свое власовцев и прочих прислужников. Опять же переселенные народы, не понятно, за что и как сюда попавшие. Петрович говорит, насмотрелся, пока учился да жил в общаге.
А его самого после школы отправили на кирпичный завод слесарем в автобазу. Но и водителем мог. Он говорит, что мама его была худенькая от непосильной работы в колхозе, сейчас девчонки малые покрепче. Я слушаю и не могу понять, при чем тут мама и кирпичный завод, какая связь? А Петрович поясняет, что хотел ей хорошее сделать, подарок купить. Вот куплю, думает, ситцевое платье и полотенце еще и поеду с подарками в отпуск.
Год поработал, но сразу не поехал, думал за два года получить отпускные и уже с хорошими деньгами ехать. Но не получилось. В отпуск его пустили, а деньги зажали. Говорят, вот выйдешь из отпуска, день проработаешь, и вторые отпускные выдадим. Такой закон. Забегая вперед, скажу, что не поехал он за теми деньгами, где-то, говорит, по сей день лежат. В чем я очень сомневаюсь.
Спрашиваю, платье-то купил? А как же, отвечает, как и хотел, ситцевое, у мамы такого сроду не было. А после отпуска дома и остался. В МТС нужны были механики, слесаря, шофера.
– Ребята местные звали. А я им говорю: вы же знаете, что со мной могут сделать. После учебы я должен четыре года отработать, а я только два пока. Меня же посадить могут. Закладывали тогда запросто, стучали многие. Выслуживались.
И так рядили и сяк, а тут Сталин заболел да и помер, как-то помягче стало. Остался, в общем, в МТС работать. И все равно парня наказали, присудили платить 25 % в пользу государства.
А мама умерла в 1960 году совсем молодой, пятьдесят один год ей всего был. Александр Петрович задумывается, будто заново переживает ее уход и жалеет, что так мало она счастья видела. «Сколько она в меня добра вложила, никакой институт столько не даст».
Потом, оглядев наш двор, вдруг заявляет: а все равно много хорошего было. Я молчу, жду продолжения, а он опять о том же.
– Я вот хорошо живу, все у меня есть, и жена, и дети, сыт, одет, квартира есть, дача. А радости нет. Не раз ночами и даже днями думал, почему так. Потом надумал. Потому что нет справедливости.
Я догадываюсь, что он имеет в виду, и потому не заостряю. Старому человеку трудно враз поменять свои убеждения. Даже если та власть не очень ласкова к нему была. Вместо этого спрашиваю: а раньше была справедливость? Тоже, говорит, не очень, но как-то все по-другому было. Честно и без обмана. Стыдно было обманывать, а сейчас кому так прямо удовольствие.
Потом заводит разговор про молодых, про то, как жаль ему этих неприкаянных ребят. «Такие они глазами нищие, и никто их не учит хорошему». Девки, опять же, курят почти поголовно. Я, говорит, отсюда вижу, зайдут за угол и курят. Хочу подойти и сказать им: девки, зачем вы курите, вам же рожать?
А молодые как на ваши концерты реагируют, спрашиваю. Хорошо, отвечает, с пониманием. Бывает, встанут, послушают. А бывает, просто мимо едет, высунется в окно и улыбнется. Молодец, мол, дед, хорошо играешь. Мне, говорит, приятно, только знаю ведь я, что играю и пою не очень. Ну, как умею. Баян сыновьям покупал, но никто не заиграл. Вот сам, как могу, подбираю на слух мелодию, а если вспомню слова, то и пою.
Было дело, один раз еще при той власти записался в кружок во Дворце профсоюзов. Зима на дворе, там холодно, изо всех щелей дует, и всё про ноты говорят. Ну он и ушел, какие ноты, если все его школы на сенокосе да в мастерских прошли. На пенсию уходил шофером уже здесь, в городе. На жизнь хватает.
Вечерами темнеет все раньше, вот-вот вернется с дачи жена, и он унесет баян в квартиру. А с морозами и совсем не станет в нашем дворе баяна. По весне, дай Бог, снова выйдет Петрович и попробует допеть ту же песню:
«А утром у входа родного завода
Влюбленному девушка встретится вновь...»
Надо будет распечатать текст песни и подарить нашему артисту. Кажется, он не до конца знает слова. А где пожилому человеку взять их, не в Интернете же.